Йопт in Translation: Ото! Как много в этом звуке…
Николай Караев работает переводчиком: он глядит в тексты до тех пор, пока тексты не начинают глядеть в него. Время от времени переживаний набирается на колонку для «Отаку».

Перевести, как известно, можно любой текст. Во всяком случае — дословно. Беда в том, что дословный перевод — подстрочник — мало кому согреет душу. Читателю и зрителю подавай художественный перевод без того, что переводчики и редакторы называют «кальками». Калька — это когда вы видите, например, в английском тексте «I have a headache» и в переводе пишете «я имею головную боль» вместо «у меня болит голова», и потом имеете головную боль после разговора с редактором.
В переводе с японского, который по структуре, грамматике и прочему от русского куда дальше, чем язык Шекспира, калечные (с ударениями на первый или второй слог) конструкции выглядят чудовищно. Взять хоть простенькое и коротенькое слово «ото», записываемое не самым сложным иероглифом в девять черт (音: наверху — «вставать», внизу — «солнце») и означающее «звук». Это, поверьте мне, кошмар переводчика.
Вспомним одно из двух самых известных хокку великого японского поэта Басё — про лягушку (второе, понятно, про улитку):
//фуруикэ я
кавадзу тобикому
мидзу-но ото//
Подстрочник:
//древний пруд, о
лягушка прыгает
звук воды//
Именно так: звук воды. Басё не уточняет — хотя в японском вполне себе есть средства для того, чтобы уточнить, как именно прозвучала вода, когда в нее вторглась пресловутая лягушка. Громкий всплеск раздался или тихий всхлип — это науке неизвестно. Звук воды. Всё. Вот как хочешь, так и понимай.
Собственно, японский читатель именно это и делает: понимает как хочет. Японский язык на кончике кисти умного автора вроде Басё превращается в картину, на которой контуры едва обозначены: нам дают достаточно информации, чтобы примерно понять, что происходит, но крайне недостаточно для того, чтобы прочувствовать, как именно разворачивается действие. Японцы предпочитают многие вещи не уточнять в принципе, полагая, что в контексте собеседник (или читатель) всё, что нужно, поймет и так. Доходит до смешного: некий писатель не уточнил пол второстепенного персонажа, скрыв его за бесполой фамилией, и когда переводчик-англичанин подступился к писателю с вопросом, с кем мы имеем дело, с he или she, автор развел руками — он и сам не знал…
Возвращаясь к лягушкам: там, где японский язык может позволить себе туманный намек, русский просто-таки требует уточнения. «Звук воды» по-русски — это пресная фраза. Нехудожественная. Никакая. Если ограничиться по-русски «звуком», читатель ощутит себя обманутым. Иными словами, адекватный перевод невозможен: японский текст предлагает интерактив, множественность смыслов, распутье, где каждый выбирает дорогу себе по вкусу; русский же текст — это, как правило, один путь — извилистый или прямой, но один-единственный.
Так что абсолютно права была Вера Маркова, когда перевела «звук воды» классической фразой «всплеск в тишине». Разумеется, переводчик додумал за автора — мы не можем быть уверены в том, что Басё имел в виду именно всплеск. Но не додумать было нельзя.
Какое отношение Басё имеет к аниме? О, самое прямое. Макото Синкай, в универе изучавший, напомню, японскую литературу, написал повесть «5 сантиметров в секунду» неплохим японским языком. И этих «ото» у него там — видимо-невидимо (и слышимо-неслышимо). Несколько примеров с дословным переводом: «муси-но ото» — «звук насекомых», «ики-о ному ото» — «звук глотаемого вздоха», «рё:ри-но ото» — «звук готовки», «ки:-о татаку ото» — «звук стучания по клавиатуре», «амэ-но тихё:-о татаку ото» — «звук дождя, стучащего по поверхности земли», «нурэта до:ро-о курума-га субэру ото» — «звук машин, скользящих по мокрой дороге», «хо:тё:-но ото я канкисэн-га мавару ото» — «звук кухонного ножа и звук вращающегося вентилятора»…
Что самое противное, все мы отлично представляем себе, о чём идет речь. На уровне именно что звука. Но, блинский блин, как это сказать по-русски?
Понятно, что в каждом случае решение ищется отдельно. И, конечно, переводчик по большому счету только тем и ценен, что подбирает адекватную словесную форму авторскому содержанию. Да и русский язык на деле полон звуков. Так, цикады по-русски могут стрекотать, петь, в том числе хором, в том числе нестройным, давать концерт, наконец. «Звук дождя, стучащего по поверхности земли, и звук машин, скользящих по мокрой дороге» превратились в переводе вашего покорного слуги в «шелест дождя и шуршание машин на мокром шоссе», и, честно сказать, этой фразой я горжусь — в ней достаточно «ш», чтобы въяве расслышать то, о чем пишет Синкай. С кухонным ножом всё более-менее понятно — «стук кухонного ножа» («в лесу раздавался», ага). Звук, издаваемый вентилятором, не столь очевиден, оттого появился «шум включенного вентилятора» — не лучшее решение, но, положа руку на сердце, и не худшее. И так далее.
Домашнее задание: попробуйте на досуге превратить в удобочитаемые русские фразы «тэйся сита дэнся-но эндзин-ото» — «звук мотора поезда, совершившего остановку», а также «ками-но мато-о я-га цурануку ото» — «звук стрелы, поразившей бумажную мишень». Удачи. Блинский блин с нами! —НК
Русскоязычное издание повести Макото Синкая «5 сантиметров в секунду» в переводе Николая Караева готовится компанией Reanimedia.



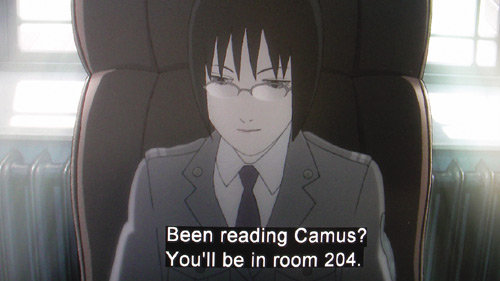



.jpg)

